Казахстанская ученая создает ИИ-решение, которое сделает операции безопаснее

В проекте «Top of Science» уже поговорили с первым в мире квантовым офтальмологом Мухитом Кулмаганбетовым. Сегодня общаемся с Айданой Масалимовой. Сейчас девушка работает в межуниверситетском европейском проекте по созданию робота-хирурга для сложных операций на позвоночнике. Казахстанка обучила нейросеть останавливать машину в миллиметре от ошибки, которая может стоить пациенту жизни.
В интервью Digital Business исследовательница рассказала, каким был ее путь из школы в Семее в лабораторию университета в Цюрихе. Почему девушка отказалась от карьеры программиста, хотя был шанс попасть в Google, и предпочла заняться наукой? Какие болезни поможет в будущем победить искусственный интеллект и что в научной системе расстраивает ее больше всего? Об этом и другом — в откровенном разговоре с Айданой.
«В обществе сложилось мнение, что наука — не женское дело»
— С чего начался ваш путь в науке?
— Училась в НИШ в Семее. Затем поступила в Назарбаев Университет на направление «Электротехника и электроника». Об академической карьере не задумывалась. В обществе как будто сложилось мнение, что это не женское дело. Но во время учебы у нас было много исследовательской работы. Наверное, это и подтолкнуло меня в сторону науки.
В итоговом проекте изучала, как точно контролировать облучение раковых клеток. При лазерной терапии очень важно следить за температурой: если перегреть ткани, можно повредить не только опухоль, но и здоровые участки. Пыталась разработать минимально инвазивный сенсор — ультратонкую нить, которую можно ввести в нужное место и точечно измерять температуру прямо внутри ткани. Такая технология позволила бы воздействовать на опухоль максимально точно.
Ради экспериментов использовала мясо из супермаркета — проверяла, как распределяется температура под лазером. Этот опыт стал первой серьезной научной работой — и именно тогда поняла, что хочу продолжать в этом направлении и поступать в магистратуру.
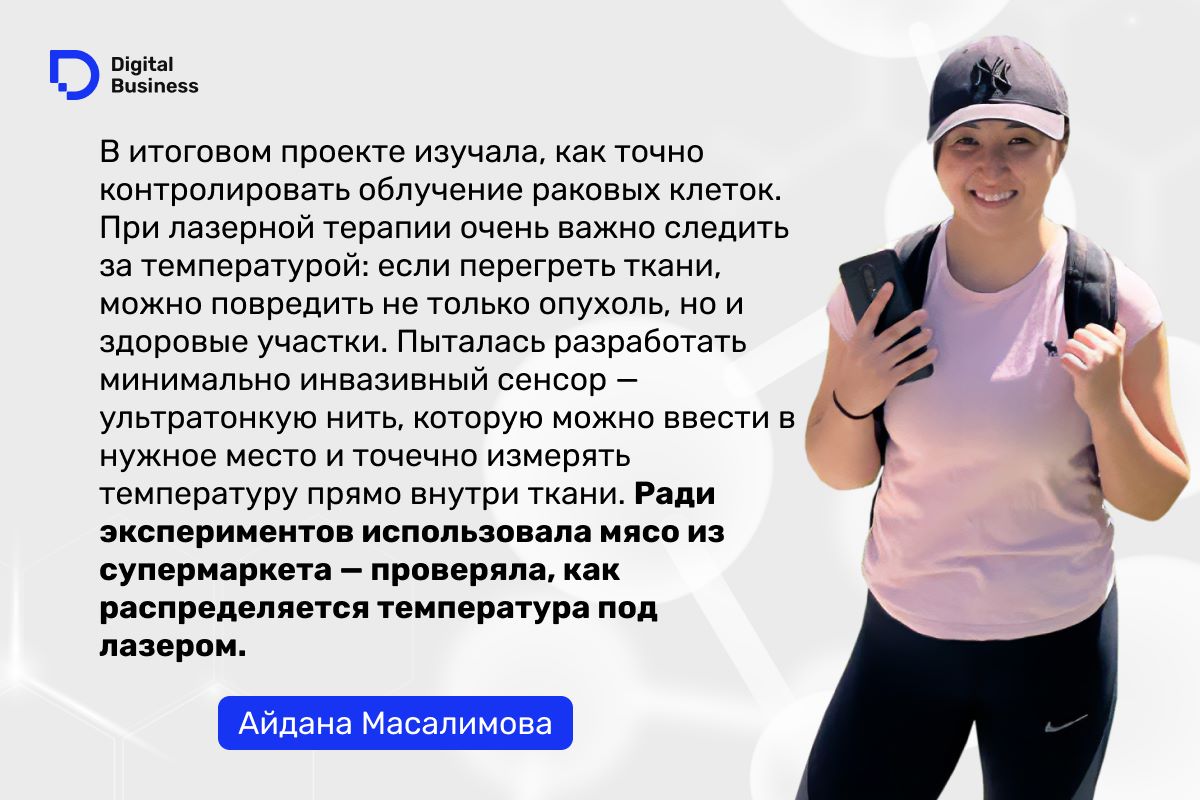
— На тот момент уже определились, чем будете заниматься как ученый?
— Понимала, что хочу развиваться в биомедицинской инженерии. Тогда в Назарбаев Университете такого направления не было. Нашла магистратуру по программе «Биомедицинская информатика» в Мюнхенском технологическом университете. Подалась и поступила. Образование очень доступное — платила всего 120 евро за семестр.
Параллельно работала программистом в Siemens — это нормально для студентов в Германии. Компании закрывают свои проекты силами молодых специалистов — платят не так много, но дают ценный опыт. Это выгодно всем.
— Были мысли уйти в софт и сделать карьеру программиста?
— Думала об этом: хорошая работа, стабильность, высокое качество жизни. В какой-то момент мне даже писали из швейцарского Google, предлагали податься на позицию Software Engineer. Но в итоге выбрала науку. Потому что это действительно вдохновляет. Мне важно заниматься проектами, доводить их до конца, копать глубоко.
Программировать люблю, но только если это часть чего-то большего. Мне важнее решать какую-то проблему.

«Даже отклонение на доли миллиметра может привести к параличу или смерти»
— Что изучали во время магистратуры?
— Это была уже не инженерия, как в бакалавриате, а компьютерные науки. Постепенно меня стало все больше увлекать, как работает мозг — начала интересоваться нейронауками и возможностью изучать мозг с помощью вычислительных методов. Так наткнулась на проект по болезни Альцгеймера и написала его руководителю — профессору из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Он быстро ответил, мы созвонились, обсудили все — и я присоединилась к его группе. Переехала в Цюрих, где живу до сих пор.
Проект был на стыке биохимии и компьютерных наук. Исследовали тау-белок — его считают одним из ключевых факторов, вызывающих болезнь Альцгеймера. Ученые вводили этот белок мышам и наблюдали за изменениями в мозге с помощью МРТ.
У нас было две группы животных: одна контрольная, вторая — с введенным белком. Моя задача — разработать систему, которая обрабатывает данные, сравнивает изображения мозга и находит зоны, где происходят изменения. Сама написала весь код — так, чтобы его можно было использовать и в дальнейшем, на других данных. И уже потом присоединилась к проекту, который разрабатывает робота-хирурга.

Испытание установки на позвонке свиньи вне организма. Париж, Франция
— Как вы перешли от нейронауки и болезни Альцгеймера к хирургическим роботам? Казалось бы, совсем другая область.
— На самом деле, между ними есть общее. И в том, и в другом случае ты анализируешь биомедицинские данные, строишь вычислительные модели, стараешься понять, как работает человеческое тело — только с разной степенью вмешательства.
Когда проект по Альцгеймеру завершился, подготовила научную статью и выложила результаты в открытый доступ. После этого начала искать докторантуру. Наткнулась на международный исследовательский проект Functionally Accurate RObotic Surgery (FAROS) — это большая инициатива, поддерживаемая Европейским союзом. Его цель — сделать роботизированную хирургию более точной и безопасной, особенно при сложных операциях на позвоночнике. Меня сразу заинтересовало, как в этом проекте сочетаются медицина, технологии и ИИ. Написала координатору, рассказала о своем опыте, мотивации — и так оказалась в команде.
— Какую задачу вы хотите решить?
— При таких заболеваниях, как грыжа межпозвоночного диска или сколиоз, позвоночник теряет стабильность — позвонки могут смещаться, сдавливать нервы или даже угрожать спинному мозгу. Чтобы этого не произошло, хирурги вставляют в позвонки специальные шурупы, а затем соединяют их металлическим стержнем. Эта конструкция жестко фиксирует позвоночник в нужном положении. Такая операция требует ювелирной точности — даже отклонение на доли миллиметра может привести к тяжелым последствиям.

Демонстрация комплекса для промежуточной оценки комиссией: Айдана представляет программное обеспечение, которое в реальном времени показывает движение робота относительно анатомических структур во время сверления. Левен, Бельгия
Идея проекта была в том, чтобы снизить вероятность ошибок при операциях за счет более точной системы. Потому что не все хирурги обладают высоким уровнем опыта. Часто для таких операций на позвоночнике пациенты вынуждены ехать в другие страны, где есть специалисты. А если такая система будет доступна локально, в любой клинике, — то не придется никуда ехать. Достаточно закупить оборудование. По сути, это технология, которая работает как «умная дрель». Просто приносишь в операционную робота — и он делает часть работы автоматически.
«Когда пришла в проект, меня предупредили, что придется много бывать на операциях»
— Какая часть работы в этом проекте легла на вас?
— Пытались научить робота «чувствовать» ткань — так же, как это делает хирург. Во время операции врач ориентируется не только на зрение — он чувствует позвоночник через инструмент. Например, когда используют дрель, она по-разному звучит и вибрирует в зависимости от типа ткани. А позвоночник состоит из разных слоев — и важно точно понять, когда ты переходишь от одного к другому. Иначе есть риск повредить спинной мозг.
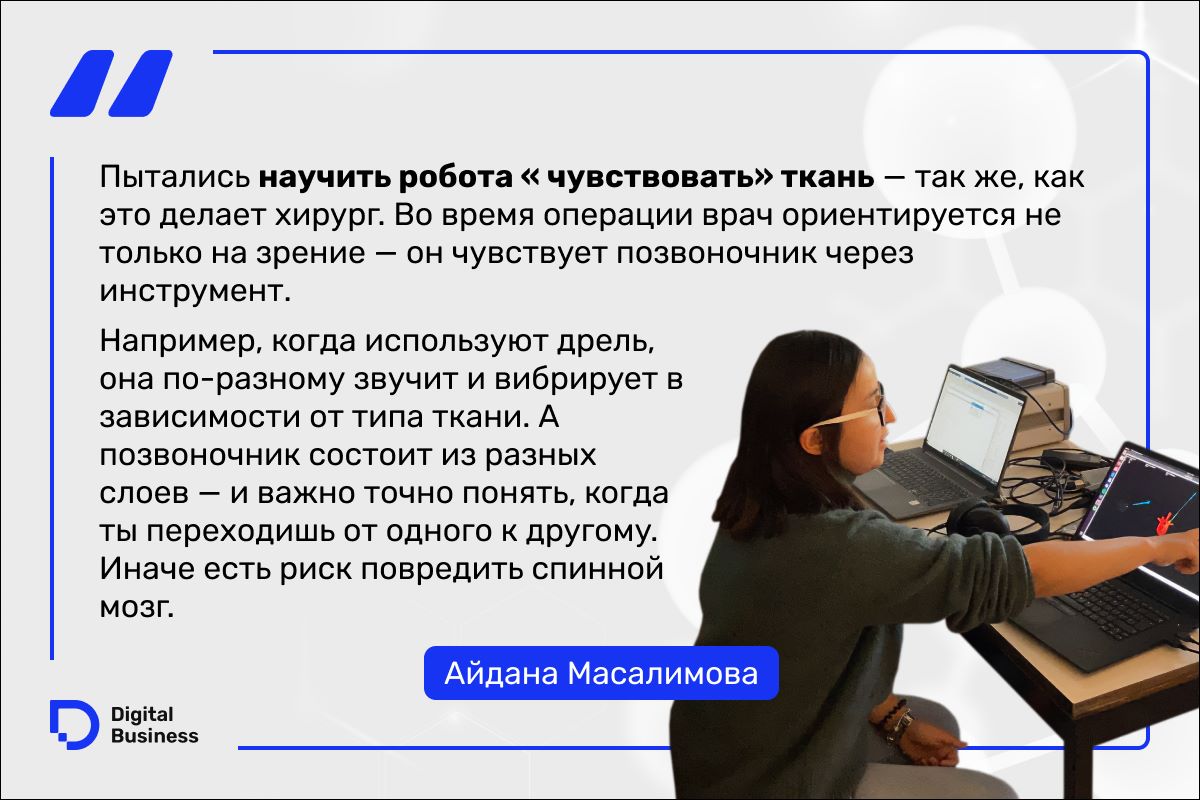
Работала над алгоритмом на основе искусственного интеллекта, который анализирует эти виброакустические сигналы и в нужный момент подает сигнал об остановке. То есть, если робот «ощущает», что дрель приближается к опасной зоне, он останавливает движение автоматически.
Сначала тестировали систему на трупах. Потом перешли к экспериментам на животных — чаще всего на свиньях. Их вводят в наркоз и проводят операции, которые максимально приближены к настоящим. Это позволяет проверить, насколько точно работает наша система в реальных условиях.

Экспериментальная оценка установки в операционной. Цюрих, Швейцария
— А вы сами присутствуете на этих процедурах?
— Обязательно. Несмотря на то, что моя работа в основном связана с программной частью, важно понимать, как все работает вживую. Нужно видеть, как ведет себя техника в реальной хирургической среде. Если сверлить просто пластик или искусственную кость — это не то же самое, что живой позвоночник. Там и структура, и плотность ткани другие.
— Насколько вам это все было комфортно? Все-таки раньше вы занимались компьютерами, а тут — операции.
— Когда только пришла в проект, меня сразу предупредили, что придется много бывать на операциях. Честно говоря, в детстве я даже хотела стать врачом — но тогда боялась крови, поэтому и не пошла в медицину. А сейчас, неожиданно для себя, поняла, что чувствую себя спокойно. Никакого дискомфорта.
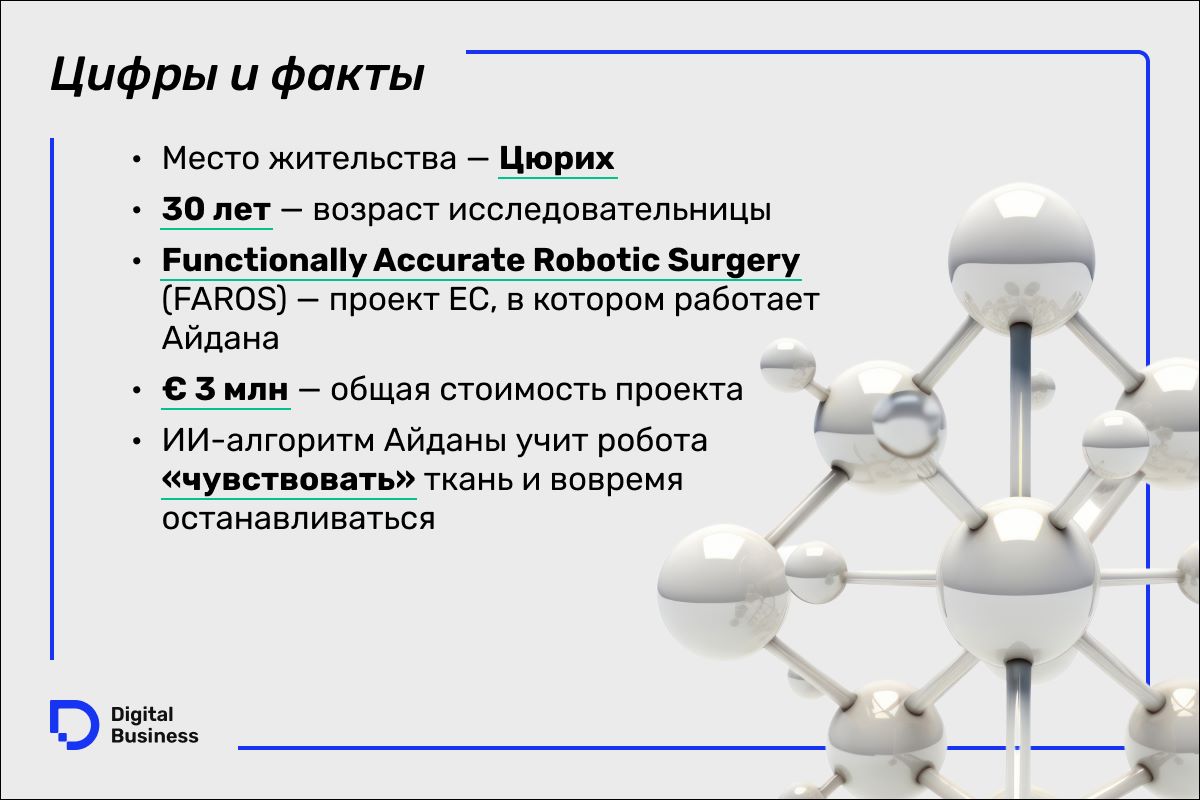
«Хочется, чтобы разработанные решения не оставались только в статьях»
— Когда, по-вашему, роботы вроде того, над которым работали, станут доступными пациентам?
— Пока только разработали прототип. Этот процесс очень долгий, особенно в Европе. Медицинские технологии сложно легализовать — нужно пройти огромное количество проверок, валидаций, клинических испытаний. Это занимает годы.
Но уже существуют компании, которые разрабатывают других хирургических роботов. Вообще, в большинстве случаев, когда публикуем статью, ее читают другие исследователи и что-то из этого внедряют в свои системы. Поэтому и люблю формат open source — когда выкладываешь код и наработки в открытом доступе. В этом и есть смысл — чтобы наши исследования не оставались только на бумаге.

Экспериментальная проверка роботизированной установки в рамках проекта FAROS. Париж, Франция
— Насколько вообще в науке считается нормальным, что исследования заканчиваются статьей и не доходят до практики?
— Такое действительно часто бывает. Многие исследования заканчиваются статьей — и на этом все. Это считается нормальным, особенно в фундаментальной науке. Там главная цель — не обязательно создать готовый продукт, а лучше понять, как что-то работает. Другое дело, что сейчас больше смотрят не на качество публикаций, а на количество. Это меня расстраивает. Все спешат, лишь бы что-то опубликовать, а качество часто страдает. Иногда даже фальсифицируют данные или подают недостоверную информацию — только ради публикации.
— Что планируете после защиты? Будете продолжать этот проект?
— Пока точно не решила, но в целом хочу остаться в этом направлении — в биомедицинских технологиях. Сейчас смотрю, какие есть возможности в индустрии. Возможно, присоединюсь к команде крупной медтех- или фармкомпании. Они тоже занимаются исследованиями. Потому что наука — это хорошо, но хочется, чтобы разработанные решения не оставались только в статьях, а доходили до реального применения — в клиниках, больницах.
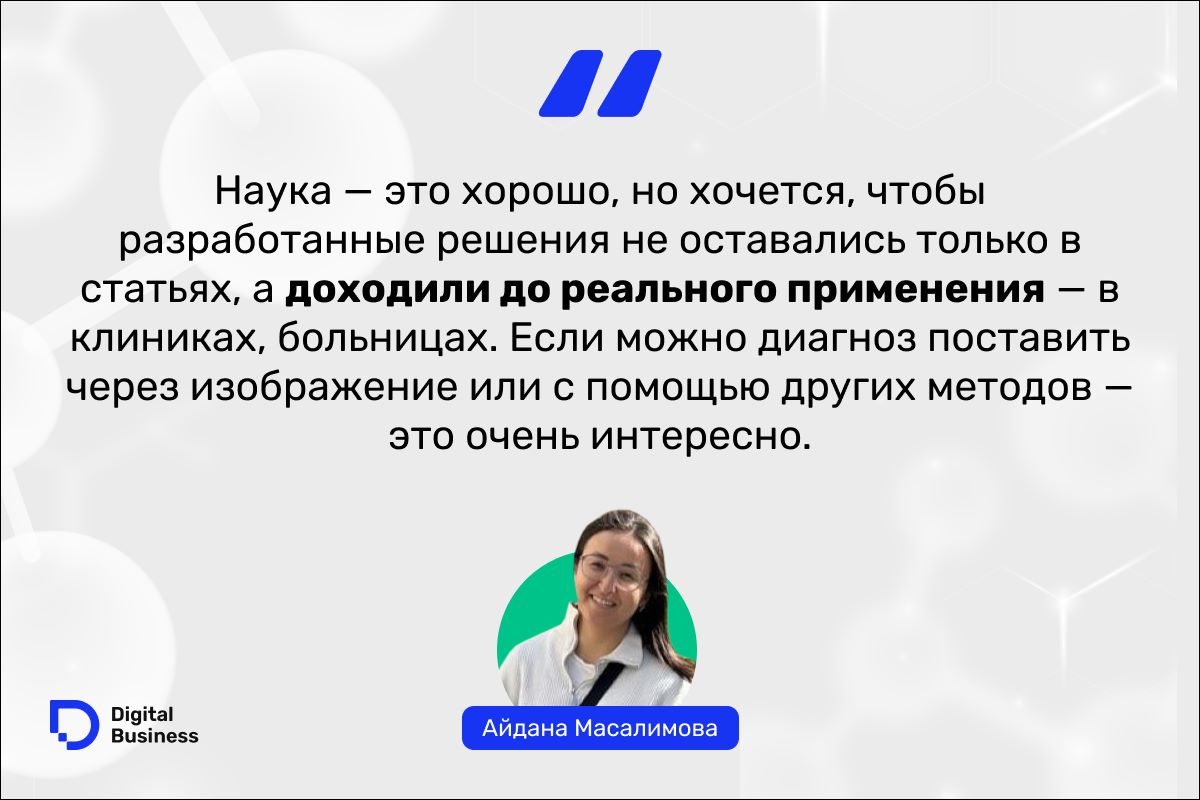
— Какие направления кажутся перспективными?
— Есть 3 основных вида болезней, с которыми человечество все еще не справилось. Это кардиоваскулярные — то есть связанные с сердцем, рак и нейродегенеративные заболевания (например, деменция). Мне, в целом, интересны все эти сферы — особенно то, как можно их диагностировать и предотвратить. И если можно диагноз поставить через изображение или с помощью других методов — это очень интересно.
— Сейчас, получается, прорывные вещи в науке, в медицине — они вообще без ИИ уже не делаются?
— Я бы так не сказала. Технологии — всего лишь инструмент. Чтобы действительно решить сложную задачу (победить рак и диабет, например), нужно знать механизм болезни. ИИ хорошо справляется с анализом больших массивов данных, может находить закономерности, которые сложно увидеть человеку. Но если ты не знаешь, что именно искать, или неправильно интерпретируешь данные, то никакие технологии не спасут. Без фундаментальной науки ИИ — ничто.



